Но и в этом случае королевский гнев охлаждало следующее рассуждение.
Иметь армию, тюрьмы, почти божественную власть и пользоваться этим всемогуществом для удовлетворения мелкой злобы было недостойно не только короля, но и самого обыкновенного человека.
Итак, оставалось молча проглотить обиду, сохранив на лице обычное благодушное и приветливое выражение.
Нужно было как ни в чем не бывало по‑дружески обращаться с принцессой. По‑дружески!.. А почему бы и нет?
Принцесса либо была виновницей неприятного события, либо оставалась пассивной зрительницей его.
Если она подстроила его, это было с ее стороны большой дерзостью, но разве ее роль не казалась вполне естественною?
Кто проник к ней в самые сладкие мгновения медового месяца, чтобы нашептывать ей слова любви? Кто осмеливался рассчитывать на адюльтер, даже больше: на кровосмешение? Кто, прикрываясь королевской мантией, сказал этой молодой женщине: «Не бойтесь ничего, любите французского короля, он превыше всего, и одно движение его руки, держащей скипетр, защитит вас от всех и даже от угрызений вашей совести?»
И молодая женщина послушалась королевских речей, уступила соблазнявшему ее голосу и теперь, пожертвовав своей честью, получала в награду неверность, тем более оскорбительную для нее, что ей предпочли другую, стоявшую гораздо ниже ее, имевшую право считать себя любимой.
Таким образом, если даже принцесса и была виновницей этого мщения, то ее нельзя за это винить.
Если же, напротив, она была только пассивной зрительницей события, то какие основания были у короля сердиться на нее?
Разве она была обязана, разве могла она обуздать провинциальные язычки? Разве она должна была в чрезмерном усердии подавить дерзость этих трех девчонок?
Все эти рассуждения наносили чувствительный укол гордости короля; однако, перебрав мысленно все свои обиды и как бы перевязав рану, Людовик XIV с удивлением ощутил новую, непонятную, глухую, нестерпимую боль.
И он не смел признаться себе, что эта режущая боль гнездится у него в сердце.
В самом деле, историку нужно поведать читателям, как король говорил сам с собой: он позволил наивному признанию Лавальер пощекотать свое сердце; он поверил в чистую любовь, любовь к человеку, любовь бескорыстную, и его душа, которая была гораздо моложе и гораздо наивнее, чем он предполагал, устремилась навстречу другой душе, только что открывшей ему свои желания.
Необыкновеннее всего в сложной истории любви – взаимосвязанность чувств двух сердец: нет ни одновременности, ни равенства; одно сердце почти всегда начинает любить раньше другого и почти всегда перестает любить после другого. Электрический ток порождается интенсивностью первой вспыхнувшей страсти. Чем больше любви выказала Лавальер, тем сильнее почувствовал ее король.
Именно это и удивляло короля.
Ведь ему ясно доказали, что симпатический ток не мог увлечь его сердца, потому что это признание не было признанием любви, потому что оно было только оскорблением, нанесенным человеку и королю, потому что, словом, оно было мистификацией.
Таким образом, эта девушка, у которой, строго говоря, не было ничего особенного, средние красота, знатность, ум, – таким образом, эта бедная девушка, выбранная принцессой за ее ничтожество, не только бросила вызов королю, но еще и пренебрегла королем, то есть человеком, которому, как азиатскому султану, стоило только бросить взгляд, протянуть руку, уронить платок, чтобы одержать победу.
Со вчерашнего вечера он был так занят этой девушкой, что не мог думать ни о чем другом; со вчерашнего вечера его воображение украшало ее всеми прелестями, которых у нее не было; словом, он, король, у которого было столько неотложных дел, которого призывало столько женщин, со вчерашнего вечера посвятил все минуты своей жизни, все биения своего сердца единственной мечте.
Поистине, это было слишком.
И так как негодование короля заставило его позабыть обо всем, в частности о присутствии де Сент‑Эньяна, то оно изливалось в самых неистовых ругательствах.
Правда, де Сент‑Эньян забился в уголок и лишь оттуда наблюдал за грозой.
По сравнению с королевским гневом его собственное разочарование казалось ему ничтожным; он только боялся, как бы этот гнев не обрушился на него.
В самом деле, король вдруг перестал расхаживать по комнате и, устремив на Сент‑Эньяна разгневанный взгляд, произнес:
– А ты, де Сент‑Эньян?
Де Сент‑Эньян сделал движение, которое обозначало: «Что вы хотите сказать, государь?»
– Да, ты оказался таким же дураком, как и я, не правда ли?
– Государь… – пролепетал де Сент‑Эньян.
– Ты попался на эту грубую шутку?
– Государь, – заговорил де Сент‑Эньян, начав дрожать всем телом, – пусть ваше величество не гневается: вашему величеству известно, что женщины – существа несовершенные, созданные для зла; следовательно, требовать от них добра невозможно.
Король, питавший глубокое уважение к своей личности и начинавший постигать искусство владеть своими страстями, которое он сохранил на всю жизнь, – король понял, что роняет свое достоинство, проявляя столько горячности по такому ничтожному поводу.
– Нет, – живо сказал он, – нет, ты ошибаешься, Сент‑Эньян, я не сержусь; я только восхищаюсь той ловкостью и смелостью, которые были обнаружены этими двумя девицами, а больше всего удивляюсь я тому, как глупо положились мы на голос своего сердца, имея возможность разузнать все подробности.
– О, сердце, государь, сердце! Этому органу следует предоставить только его физические функции, отняв от него все функции моральные. Признаюсь, увидев, что сердце вашего величества так сильно занято этой…
– Занято? Мое сердце? Ум – может быть; что же касается сердца… то оно…
Людовик снова заметил, что, желая прикрыть один фланг, он готов обнажить другой.
– Впрочем, – прибавил он, – мне не за что упрекать эту малютку. Я же знал, что она любит другого.
– Виконта де Бражелона, да. Я ведь предупреждал ваше величество.
– Ты прав, но не ты был первый. Граф де Ла Фер просил у меня руки мадемуазель де Лавальер для своего сына. Ну, раз они любят друг друга, я обвенчаю их, как только Бражелон вернется из Англии.
– Узнаю все великодушие короля.
– Довольно, Сент‑Эньян, довольно об этом, – остановил его Людовик.
– Да, позабудем обиду, государь, – покорился придворный.
– К тому же это будет нетрудно, – отвечал король со вздохом.
– И для начала я напишу на эту троицу хорошенькую эпиграмму. Я озаглавлю ее: «Наяда и Дриада»; это доставит удовольствие принцессе.
– Действуй, де Сент‑Эньян, действуй, – прошептал король. – Ты прочитаешь стихи, это меня развлечет. Все это пустяки, Сент‑Эньян, пустяки, – прибавил король с видом человека, которому трудно дышать.
Когда король оправился и ему удалось придать своему лицу выражение ангельского терпения, в дверь постучал камер–динер.
Де Сент‑Эньян почтительно отошел в сторону.
– Войдите, – сказал король.
Камердинер приоткрыл дверь.
– Что случилось? – спросил Людовик.
Камердинер показал записку, сложенную треугольником.
– Для его величества, – сказал он.
– От кого?
– Не знаю, письмо было передано одним из дежурных офицеров.



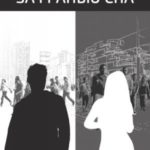


Комментариев нет