Раза два его поднимали ночью и заставляли писать «записки», несколько раз добывали посредством курьера из гостей – всё по поводу этих же записок. Всё это навело на него страх и скуку великую. «Когда же жить. Когда жить?» – твердил он.
О начальнике он слыхал у себя дома, что это отец подчинённых, и потому составил себе самое смеющееся, самое семейное понятие об этом лице. Он его представлял себе чем-то вроде второго отца, который только и дышит тем, как бы за дело и не за дело, сплошь да рядом, награждать своих подчинённых и заботиться не только о их нуждах, но и об удовольствиях.
Илья Ильич думал, что начальник до того входит в положение своего подчинённого, что заботливо расспросит его: каково он почивал ночью, отчего у него мутные глаза и не болит ли голова?
Но он жестоко разочаровался в первый же день своей службы. С приездом начальника начиналась беготня, суета, все смущались, все сбивали друг друга с ног, иные обдёргивались, опасаясь, что они не довольно хороши как есть, чтоб показаться начальнику.
Это происходило, как заметил Обломов впоследствии, оттого, что есть такие начальники, которые в испуганном до одурения лице подчинённого, выскочившего к ним навстречу, видят не только почтение к себе, но даже ревность, а иногда и способности к службе.
Илье Ильичу не нужно было пугаться так своего начальника, доброго и приятного в обхождении человека: он никогда никому дурного не сделал, подчинённые были как нельзя более довольны и не желали лучшего. Никто никогда не слыхал от него неприятного слова, ни крика, ни шуму; он никогда ничего не требует, а всё просит. Дело сделать – просит, в гости к себе – просит и под арест сесть – просит. Он никогда никому не сказал ты; всем вы: и одному чиновнику и всем вместе.
Но все подчинённые чего-то робели в присутствии начальника; они на его ласковый вопрос отвечали не своим, а каким-то другим голосом, каким с прочими не говорили.
И Илья Ильич вдруг робел, сам не зная отчего, когда начальник входил в комнату, и у него стал пропадать свой голос и являлся какой-то другой, тоненький и гадкий, как скоро заговаривал с ним начальник.
Исстрадался Илья Ильич от страха и тоски на службе даже и при добром, снисходительном начальнике. Бог знает что сталось бы с ним, если б он попался к строгому и взыскательному!
Обломов прослужил кое-как года два; может быть, он дотянул бы и третий, до получения чина, но особенный случай заставил его ранее покинуть службу.
Он отправил однажды какую-то нужную бумагу вместо Астрахани в Архангельск. Дело объяснилось; стали отыскивать виноватого.
Все другие с любопытством ждали, как начальник позовёт Обломова, как холодно и покойно спросит, «он ли это отослал бумагу в Архангельск», и все недоумевали, каким голосом ответит ему Илья Ильич. Некоторые полагали, что он вовсе не ответит: не сможет.
Глядя на других, Илья Ильич и сам перепугался, хотя и он и все прочие знали, что начальник ограничится замечанием; но собственная совесть была гораздо строже выговора.
Обломов не дождался заслуженной кары, ушёл домой и прислал медицинское свидетельство.
В этом свидетельстве сказано было:
«Я, нижеподписавшийся, свидетельствую, с приложением своей печати, что коллежский секретарь Илья Обломов одержим отолщением сердца с расширением левого желудочка оного (Hypertrophia cordis cum dilatatione ejus ventriculi sinistri), а равно хроническою болью в печени (hetitis), угрожающею опасным развитием здоровью и жизни больного, каковые припадки происходят, как надо полагать, от ежедневного хождения в должность. Посему, в предотвращение повторения и усиления болезненных припадков, я считаю за нужное прекратить на время г. Обломову хождение на службу и вообще предписываю воздержание от умственного занятия и всякой деятельности».
Но это помогло только на время: надо же было выздороветь, – а за этим в перспективе было опять ежедневное хождение в должность. Обломов не вынес и подал в отставку. Так кончилась – и потом уже не возобновлялась – его государственная деятельность.
Роль в обществе удалась было ему лучше.
В первые годы пребывания в Петербурге, в его ранние, молодые годы, покойные черты лица его оживлялись чаще, глаза подолгу сияли огнём жизни, из них лились лучи света, надежды, силы. Он волновался, как и все, надеялся, радовался пустякам и от пустяков же страдал. Но это всё было давно, ещё в ту нежную пору, когда человек во всяком другом человеке предполагает искреннего друга и влюбляется почти во всякую женщину и всякой готов предложить руку и сердце, что иным даже и удаётся совершить, часто к великому прискорбию потом на всю остальную жизнь.
В эти блаженные дни на долю Ильи Ильича тоже выпало немало мягких, бархатных, даже страстных взглядов из толпы красавиц, пропасть многообещающих улыбок, два-три непривилегированные поцелуя и ещё больше дружеских рукопожатий, с болью до слёз.
Впрочем, он никогда не отдавался в плен красавицам, никогда не был их рабом, даже очень прилежным поклонником, уже и потому, что к сближению с женщинами ведут большие хлопоты. Обломов больше ограничивался поклонением издали, на почтительном расстоянии.
Редко судьба сталкивала его с женщиною в обществе до такой степени, чтоб он мог вспыхнуть на несколько дней и почесть себя влюблённым. От этого его любовные интриги не разыгрывались в романы: они останавливались в самом начале и своею невинностью, простотой и чистотой не уступали повестям любви какой-нибудь пансионерки на возрасте.
Пуще всего он бегал тех бледных, печальных дев, большею частию с чёрными глазами, в которых светятся «мучительные дни и неправедные ночи», дев с неведомыми никому скорбями и радостями, у которых всегда есть что-то вверить, сказать, и когда надо сказать, они вздрагивают, заливаются внезапными слезами, потом вдруг обовьют шею друга руками, долго смотрят в глаза, потом на небо, говорят, что жизнь их обречена проклятию, и иногда падают в обморок. Он с боязнью обходил таких дев. Душа его была ещё чиста и девственна; она, может быть, ждала своей любви, своей поры, своей патетической страсти, а потом, с годами, кажется, перестала ждать и отчаялась.
Илья Ильич ещё холоднее простился с толпой друзей. Тотчас после первого письма старосты о недоимках и неурожае заменил он первого своего друга, повара, кухаркой, потом продал лошадей и, наконец, отпустил прочих «друзей».
Его почти ничто не влекло из дома, и он с каждым днём всё крепче и постояннее водворялся в своей квартире.
Сначала ему тяжело стало пробыть целый день одетым, потом он ленился обедать в гостях, кроме коротко знакомых, больше холостых домов, где можно снять галстук, расстегнуть жилет и где можно даже «поваляться» или соснуть часок.





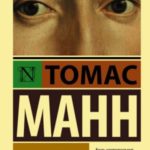
Комментариев нет