А если закипит ещё у него воображение, восстанут забытые воспоминания, неисполненные мечты, если в совести зашевелятся упрёки за прожитую так, а не иначе жизнь – он спит непокойно, просыпается, вскакивает с постели, иногда плачет холодными слезами безнадёжности по светлом, навсегда угаснувшем идеале жизни, как плачут по дорогом усопшем, с горьким чувством сознания, что не довольно сделали для него при жизни.
Потом он взглянет на окружающее его, вкусит временных благ и успокоится, задумчиво глядя, как тихо и покойно утопает в пожаре зари вечернее солнце, наконец решит, что жизнь его не только сложилась, но и создана, даже предназначена была так просто, немудрёно, чтоб выразить возможность идеально покойной стороны человеческого бытия.
Другим, думал он, выпадало на долю выражать её тревожные стороны, двигать создающими и разрушающими силами: у всякого своё назначение!
Вот какая философия выработалась у обломовского Платона и убаюкивала его среди вопросов и строгих требований долга и назначения! И родился и воспитан он был не как гладиатор для арены, а как мирный зритель боя; не вынести бы его робкой и ленивой душе ни тревог счастья, ни ударов жизни – следовательно, он выразил собою один её край, и добиваться, менять в ней что-нибудь или каяться – нечего.
С летами волнения и раскаяние являлись реже, и он тихо и постепенно укладывался в простой и широкий гроб остального своего существования, сделанный собственными руками, как старцы пустынные, которые, отворотясь от жизни, копают себе могилу.
Он уж перестал мечтать об устройстве имения и о поездке туда всем домом. Поставленный Штольцем управляющий аккуратно присылал ему весьма порядочный доход к рождеству, мужики привозили хлеба и живности, и дом процветал обилием и весельем.
Илья Ильич завёл даже пару лошадей, но, из свойственной ему осторожности, таких, что они только после третьего кнута трогались от крыльца, а при первом и втором ударе одна лошадь пошатнётся и ступит в сторону, потом вторая лошадь пошатнётся и ступит в сторону, потом уже, вытянув напряжённо шею, спину и хвост, двинутся они разом и побегут, кивая головами. На них возили Ваню на ту сторону Невы, в гимназию, да хозяйка ездила за разными покупками.
На масленице и на святой вся семья и сам Илья Ильич ездили на гулянье кататься и в балаганы; брали изредка ложу и посещали, также всем домом, театр.
Летом отправлялись за город, в ильинскую пятницу – на Пороховые Заводы, и жизнь чередовалась обычными явлениями, не внося губительных перемен, можно было бы сказать, если б удары жизни вовсе не достигали маленьких мирных уголков. Но, к несчастью, громовой удар, потрясая основания гор и огромные воздушные пространства, раздаётся и в норке мыши, хотя слабее, глуше, но для норки ощутительно.
Илья Ильич кушал аппетитно и много, как в Обломовке, ходил и работал лениво и мало, тоже как в Обломовке. Он, несмотря на нарастающие лета, беспечно пил вино, смородиновую водку и ещё беспечнее и подолгу спал после обеда.
Вдруг всё это переменилось.
Однажды, после дневного отдыха и дремоты, он хотел встать с дивана – и не мог, хотел выговорить слово – и язык не повиновался ему. Он в испуге махал только рукой, призывая к себе на помощь.
Живи он с одним Захаром, он мог бы телеграфировать рукой до утра и наконец умереть, о чём узнали бы на другой день, но глаз хозяйки светил над ним, как око провидения: ей не нужно было ума, а только догадка сердца, что Илья Ильич что-то не в себе.
И только эта догадка озарила её, Анисья летела уже на извозчике за доктором, а хозяйка обложила голову ему льдом и разом вытащила из заветного шкафчика все спирты, примочки – всё, что навык и наслышка указывали ей употребить в дело. Даже Захар успел в это время надеть один сапог и так, об одном сапоге, ухаживал вместе с доктором, хозяйкой и Анисьей около барина.
Илью Ильича привели в чувство, пустили кровь и потом объявили, что это был апоплексический удар и что ему надо повести другой образ жизни.
Водка, пиво и вино, кофе, с немногими и редкими исключениями, потом всё жирное, мясное, пряное было ему запрещено, а вместо этого предписано ежедневное движение и умеренный сон только ночью.
Без ока Агафьи Матвеевны ничего бы этого не состоялось, но она умела ввести эту систему тем, что подчинила ей весь дом и то хитростью, то лаской отвлекала Обломова от соблазнительных покушений на вино, на послеобеденную дремоту, на жирные кулебяки.
Чуть он вздремнёт, падал стул в комнате, так, сам собою, или с шумом разбивалась старая, негодная посуда в соседней комнате, а не то зашумят дети – хоть вон беги! Если это не поможет, раздавался её кроткий голос: она звала его и спрашивала о чем-нибудь.
Дорожка сада продолжена была в огород, и Илья Ильич совершал утром и вечером по ней двухчасовое хождение. С ним ходила она, а нельзя ей, так Маша, или Ваня, или старый знакомый, безответный, всему покорный и на всё согласный Алексеев.
Вот Илья Ильич идёт медленно по дорожке, опираясь на плечо Вани. Ваня уж почти юноша, в гимназическом мундире, едва сдерживает свой бодрый, торопливый шаг, подлаживаясь под походку Ильи Ильича. Обломов не совсем свободно ступает одной ногой – следы удара.
– Ну, пойдём, Ванюша, в комнату! – сказал он.
Они было направились к двери. Навстречу им появилась Агафья Матвеевна.
– Куда это вы так рано? – спросила она, не давая войти.
– Что за рано! Мы раз двадцать взад и вперёд прошли, а ведь отсюда до забора пятьдесят сажен – значит, две версты.
– Сколько раз прошли? – спросила она Ванюшу.
Тот было замялся.
– Не ври, смотри у меня! – грозила она, глядя ему в глаза. – Я сейчас увижу. Помни воскресенье, не пущу в гости.
– Нет, маменька. Право, мы раз… двенадцать прошли.
– Ах ты, плут этакой! – сказал Обломов. – Ты всё акацию щипал, а я считал всякий раз…
– Нет, походите ещё: у меня и уха не готова! – решила хозяйка и захлопнула перед ними дверь.
И Обломов волей-неволей отсчитал ещё восемь раз, потом уже пришёл в комнату.
Там, на большом круглом столе, дымилась уха. Обломов сел на своё место, один на диване, около него, справа на стуле, Агафья Матвеевна, налево, на маленьком детском стуле с задвижкой, усаживался какой-то ребёнок лет трёх. Подле него садилась Маша, уже девочка лет тринадцати, потом Ваня и, наконец, в этот день и Алексеев сидел напротив Обломова.
– Вот постойте, дайте ещё я положу вам ёршика: жирный такой попался! – говорила Агафья Матвеевна, подкладывая Обломову в тарелку ёршика.

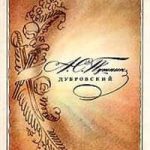




Комментариев нет