Останови он тогда внимание на ней, он бы сообразил, что она идёт почти одна своей дорогой, оберегаемая поверхностным надзором тётки от крайностей, но что не тяготеют над ней, многочисленной опекой, авторитеты семи нянек, бабушек, тёток, с преданиями рода, фамилии, сословия, устаревших нравов, обычаев, сентенций; что не ведут её насильно по избитой дорожке, что она идёт по новой тропе, по которой ей приходилось пробивать свою колею собственным умом, взглядом, чувством.
А природа её ничем этим не обидела; тётка не управляет деспотически её волей и умом, и Ольга многое угадывает, понимает сама, осторожно вглядывается в жизнь, вслушивается… между прочим, и в речи, советы своего друга…
Он этого не соображал ничего и только ждал от неё многого впереди, но далеко впереди, не проча никогда её себе в подруги.
А она, по самолюбивой застенчивости, – долго не давала угадывать себя, и только после мучительной борьбы за границей он с изумлением увидел, в какой образ простоты, силы и естественности выросло это многообещавшее и забытое им дитя. Там мало-помалу открывалась перед ним глубокая бездна её души, которую приходилось ему наполнять и никогда не наполнить.
Сначала долго приходилось ему бороться с живостью её натуры, прерывать лихорадку молодости, укладывать порывы в определённые размеры, давать плавное течение жизни, и то на время: едва он закрывал доверчиво глаза, поднималась опять тревога, жизнь била ключом, слышался новый вопрос беспокойного ума, встревоженного сердца; там надо было успокоивать раздражённое воображение, унимать или будить самолюбие. Задумывалась она над явлением – он спешил вручить ей ключ к нему.
Вера в случайности, туман галлюцинации исчезали из жизни. Светла и свободна, открывалась перед ней даль, и она, как в прозрачной воде, видела в ней каждый камешек, рытвину и потом чистое дно.
– Я счастлива! – шептала она, окидывая взглядом благодарности свою прошедшую жизнь, и, пытая будущее, припоминала свой девический сон счастья, который ей снился когда-то в Швейцарии, ту задумчивую, голубую ночь, и видела, что сон этот, как тень, носится в жизни.
«За что мне это выпало на долю?» – смиренно думала она. Она задумывалась, иногда даже боялась, не оборвалось бы это счастье.
Шли годы, а они не уставали жить. Настала и тишина, улеглись и порывы; кривизны жизни стали понятны, выносились терпеливо и бодро, а жизнь всё не умолкала у них.
Ольга довоспиталась уже до строгого понимания жизни; два существования, её и Андрея, слились в одно русло; разгула диким страстям быть не могло: всё было у них гармония и тишина.
Казалось бы, заснуть в этом заслуженном покое и блаженствовать, как блаженствуют обитатели затишьев, сходясь трижды в день, зевая за обычным разговором, впадая в тупую дремоту, томясь с утра до вечера, что всё передумано, переговорено и переделано, что нечего больше говорить и делать, и что «такова уж жизнь на свете».
Снаружи и у них делалось всё, как у других. Вставали они хотя не с зарёй, но рано; любили долго сидеть за чаем, иногда даже будто лениво молчали, потом расходились по своим углам или работали вместе, обедали, ездили в поля, занимались музыкой… как все, как мечтал и Обломов…
Только не было дремоты, уныния у них, без скуки и без апатии проводили они дни; не было вялого взгляда, слова; разговор не кончался у них, бывал часто жарок.
По комнатам разносились их звонкие голоса, доходили до сада, или тихо передавали они, как будто рисуя друг перед другом узор своей мечты, неуловимое для языка первое движение, рост возникающей мысли, чуть слышный шёпот души…
И молчание их было – иногда задумчивое счастье, о котором одном мечтал бывало Обломов, или мыслительная работа в одиночку над нескончаемым, задаваемым друг другу материалом…
Часто погружались они в безмолвное удивление перед вечно новой и блещущей красотой природы. Их чуткие души не могли привыкнуть к этой красоте: земля, небо, море – всё будило их чувство, и они молча сидели рядом, глядели одними глазами и одной душой на этот творческий блеск и без слов понимали друг друга.
Не встречали они равнодушно утра; не могли тупо погрузиться в сумрак тёплой, звёздной, южной ночи. Их будило вечное движение мысли, вечное раздражение души и потребность думать вдвоём, чувствовать, говорить!..
Но что же было предметом этих жарких споров, тихих бесед, чтений, далёких прогулок?
Да всё. Ещё за границей Штольц отвык читать и работать один: здесь, с глазу на глаз с Ольгой, он и думал вдвоём. Его едва-едва ставало поспевать за томительною торопливостью её мысли и воли.
Вопрос, что он будет делать в семейном быту, уж улёгся, разрешился сам собою. Ему пришлось посвятить её даже в свою трудовую, деловую жизнь, потому что в жизни без движения она задыхалась, как без воздуха.
Какая-нибудь постройка, дела по своему или обломовскому имению, компанейские операции – ничто не делалось без её ведома или участия. Ни одного письма не посылалось без прочтения ей, никакая мысль, а ещё менее исполнение не проносилось мимо неё; она знала всё, и всё занимало её, потому что занимало его.
Сначала он делал это потому, что нельзя было укрыться от неё: писалось письмо, шёл разговор с поверенным, с какими-нибудь подрядчиками – при ней, на её глазах; потом он стал продолжать это по привычке, а наконец это обратилось в необходимость и для него.
Её замечание, совет, одобрение или неодобрение стали для него неизбежною поверкою: он увидел, что она понимает точно так же, как он, соображает, рассуждает не хуже его… Захар обижался такой способностью в своей жене, и многие обижаются, – а Штольц был счастлив!
А чтение, а ученье – вечное питание мысли, её бесконечное развитие! Ольга ревновала к каждой непоказанной ей книге, журнальной статье, не шутя сердилась или оскорблялась, когда он не заблагорассудит показать ей что-нибудь, по его мнению, слишком серьёзное, скучное, непонятное ей, называла это педантизмом, пошлостью, отсталостью, бранила его «старым немецким париком». Между ними по этому поводу происходили живые, раздражительные сцены.
Она сердилась, а он смеялся, она ещё пуще сердилась и тогда только мирилась, когда он перестанет шутить и разделит с ней свою мысль, знание или чтение. Кончалось тем, что всё, что нужно и хотелось знать, читать ему, то надобилось и ей.
Он не навязывал ей учёной техники, чтоб потом, с глупейшею из хвастливостей, гордиться «учёной женой». Если б у ней вырвалось в речи одно слово, даже намёк на эту претензию, он покраснел бы пуще, чем когда бы она ответила тупым взглядом неведения на обыкновенный в области знания, но ещё недоступный для женского современного воспитания вопрос. Ему только хотелось, а ей вдвое, чтоб не было ничего недоступного – не ведению, а её пониманию.





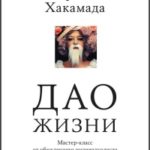
Комментариев нет