Он принадлежал теперь к деклассированным элементам, или к лишним людям, или, если хотите, к бывшим. Но в бывших и таилось самое интересное, потому что большинство бодро марширует к финалу, а бывшие умудряются этот финал пересидеть и затеять на руинах что‑то новое. Октябрь был теплый, Миша много ходил и не мерз. Сначала проговаривал про себя бесконечные обвинительные или защитительные речи, которых не сказал на собрании – слава Богу, потому что все они могли ухудшить его участь. После начал размышлять – иногда вслух, да и кому было его слушать, например, на Воробьевых горах? – о лишних людях; ему пришло в голову, что в каждом тексте русской литературы есть дуэль сверхчеловека с лишним человеком, Печорина с Грушницким, Базарова с Павлом Петровичем. А все это потому, что участь лишних и новых – одна: ими все пренебрегают. И тогда они, маргинальные люди, устраивают дуэли.
В больнице было, пожалуй, даже интересно. Для будущей прозы много чего можно было подсмотреть. В умирающих что‑то было, а в мертвых – уже ничего, и это наводило, хочешь не хочешь, на мысль о душе. Были любопытные казусы – лежащая в параличе Соколова, про которую никто толком не знал, понимает она что‑то или уже нет, и ее муж, сидевший около нее целыми днями и гладивший ее руку, а иногда читавший вслух. Соколова дышала самостоятельно, но питалась через капельницу. Иногда мужу предлагали отключить ее от питания, но он отказывался. Он был уверен, что она все понимает. Конечно, слишком долго это продолжаться не могло, но Соколова была старая большевичка, и ее пока терпели. Соколов же не был большевик, он был бухгалтер, но бухгалтеры имеют иногда поразительно глубокие чувства.
Миша насмотрелся на умирающих, и его презрение к смерти несколько поколебалось. Раньше он думал, что принимать в расчет смерть вообще не стоит, что она не наше дело. Теперь он понимал, что в жизни большинства – скажем, девяти десятых – она вообще была единственным событием, главней рождения, ибо в рождении ничего от нас не зависит. И умирать лучше всего не с гордо поднятой головой, в этом бывает ужасный моветон, а с покорным сознанием неприятной работы, которую надо исполнить. Кичиться совершенно нечем. Достоинство не в том, чтобы гордиться и бодрячествовать, а в том, чтобы сделать все абсолютно естественно. Как ни странно, все толстовские разговоры о правильном умирании простых людей были глупостью умного человека, подгонявшего мир под свои взгляды. Так называемые простые люди умирали хуже всего, в истерике, в озлоблении, в непрерывных капризах, ибо у них не было никаких механизмов защиты от страха. Тише всего умирала низовая интеллигенция, иногда – старики из бывших, сохранившие веру. Легче все‑таки было тем, у чьей постели кто‑то сидел. Вообще же умирали довольно часто, и Миша понял, что от медицины, в сущности, толку мало – прав был Чехов: ерунда сама пройдет, а прочее неизлечимо. Отец любил повторять эту фразу. Больница нужна была не больному, а родственникам, получавшим право думать, что они сделали всё, что могли.
– Дело твое, в общем, очень печальное, – сказал он отцу, не решаясь вымолвить, что это дело обреченное.
– Но все остальные еще печальней, – возразил отец. – Я хотя бы имею отношение к самому главному. – И добавил: – Ты теперь, кстати, тоже.
– Не уверен, что это главное, – сказал Миша. – Вот если бы существовала профессия, помогающая подготовиться к смерти… Но это, как ты понимаешь, не литература и подавно не богословие.
– Химия, – фыркнул отец, и больше они об этом не говорили, но тайно сблизились.
Постепенно Миша оттаивал, подползала тоска по сборищам – у Бориса, у Нины, у Сергея. Но он, конечно, накрепко запретил себе туда ходить. Ведь они все предатели. Они предали его легко, без сожаления. И будем честны: в последнее время ему было там, в этом кругу, тесно. Политические разговоры. Попытки искреннего раболепия, без лести, от чистого сердца. Чтение газет между строк, извилистые рассуждения об Англии, о стравливании с Германией, о развороте на Восток. Почему‑то о Турции, хотя какая Турция? Тихоголосые писчебумажные девушки, делающие вид, что им интересно. Да Крапивиной спасибо надо сказать, что он выпрыгнул из всего этого. Разве он не дерзил им всем – в тайной надежде, что они его сами выгонят? «Зеленая лампа», любомудры, кружок дозволенной избранности, поиски подлинного марксизма, политинформации Бориса, якобы со знанием тайных пружин. Дикое самодовольство. Ему, конечно, очень нравилась роль скептика. Он вообще теперь стал во многом себе признаваться, находил в этом неведомое прежде наслаждение – все додумывать до конца. Да, ему нравилось, что было куда пойти. Что к его разборам прислушивались. Что ему было кому почитать. Но разве он не догадывался, насколько все это хрупко, насколько все они готовы к сдаче? Себя ли, другого ли – какая разница? Вся эта декабристская пошлость, которую чувствовал один Грибоедов (Пушкин – нет, в Пушкине не было той желчи, он по доброте своей вечно умилялся): чуть надави – пойдут писать друг на друга подробнейшие, верноподданнейшие досье. Миша понимал, что им его не хватает, что они его, вероятно, ждут. Но он, зачумленный, запретил себе. Больше никогда. И хотя знал за собой отходчивость, которую презирал как признак слабости, а не доброты, – прошло две, три недели, а он был тверд: никаких сборищ, никакого Карманицкого переулка.
Конечно, все это было очень славно. Все эти сидения в тесном кругу, восхищенные женские взгляды – да, женские, уже не девчоночьи, – слабое вино, тени веток на обоях, одуряющие весенние запахи в форточку, папиросные гильзы со следами помады, и иногда, выглядывая в окно, в фиолетовый вечер с одним из первых апрельских дождей, он чувствовал такую полноту счастья, какой, он знал, не будет уже никогда. Слагаемые этого счастья были просты и даже пошлы: фонари, ветки, кислый рислинг, всякие глупости под гитару, стыдно перечислить; но без целительной дозы этой пошлости не бывает ничего великого. Блажен, кто смолоду. Теперь он своевременно выброшен из всего этого, теперь ему предстоит окунаться в жизнь и взрослеть в одиночестве. Но иногда, перетаскивая тюки зловонного белья или отвозя в прозекторскую очередной труп, он думал: Валя Крапивина, сволочь, мразь, что же ты сделала с моей жизнью.
Но потом он представлял на своем месте любого другого из их компании, из так называемой семерки, и понимал ясней ясного: никто бы не выдержал, никто. Все слишком хорошо о себе думали, а он всегда что‑то понимал, только у него хватало презрения к себе и остальным. И хотя ему достало ума понимать, что и это красивость, и это тоже самолюбование, даже, может, большее, чем у Бориса, – он себя не одергивал. Он имел теперь право думать о себе лучше, потому что все прочие преимущества были у него отняты.




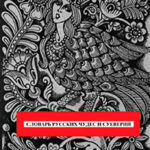
Комментариев нет