Когда кончился сезон дождей, она стала выходить на берег и там бродила в ожидании парома из Краби.
Причала на острове не было, так что паром сбрасывал туристов недалеко от берега. Издали завидев его приближение, местные жители уже направляли к нему свои длиннохвостые, легкие и быстрые, как стрижи, лодки.
Айя надеялась на какое‑то чудо: вдруг в одной из лодок окажется кто‑нибудь знакомый, и можно будет перехватить денег на дорогу до Краби, а оттуда – на Бангкок или куда угодно, где есть цивилизация, выставочные залы, галереи, лаборатории для проявки и печати наработанных снимков.
Посреди уютнейшей бухты по пояс в воде сидела курчавая зеленая скала с макаронинами мокрых лиан на макушке, словно морская пучина в результате природного катаклизма только что извергла чью‑то гигантскую мятую башку со свалявшимися дредами. Айе нравилось изо дня в день смотреть на эту плюшевую дылду, она скучала без гор на горизонте, ей не хватало их для устойчивости и ориентира.
Стоял обычный для этой поры бесконечный райский день, предъявлявший наблюдателю все то, что каких‑нибудь три месяца назад казалось Айе волшебным сном: сапфировые воды залива двигались, как весенний луг под свежим ветром; каракулевые облачка отзывались такому же белому песку длинных шелковистых отмелей. Искрящийся горизонт, голубые тайские лодки, высоко вознесенные гривы кокосовых пальм, а под ними несколько бамбуковых бунгало на сваях.
Невероятная тощища, хоть прыгай в море и плыви… куда‑нибудь.
Она стояла, неподвижно вглядываясь в обморочную бесконечность воды: просто ступить и пойти, покатить на коньках по этой глади, как по льду, и долго катить, хотя бы до Краби. Так ясно представила эту картинку, что улыбнулась и хмыкнула: было бы здорово.
И буквально в ту же минуту из‑за скалы в море показался человек с чем‑то похожим на посох в руках, и человек – о, боже, так ведь это и выглядело! – стоял на волне, как Христос на водах галилейских, и довольно быстро двигался к берегу.
Она тряхнула головой, чтобы сбросить видение, и одновременно схватилась за камеру – та, как у любого профессионала, будь то охотник или фотограф, всегда была под рукой.
Ах, вот в чем дело, с облегчением поняла она: этот тип стоит на доске, отсюда незаметной. Как это называется – виндсерфинг, бодибординг? или что‑то вроде…
Как внезапно он вынырнул из‑за скалы!
Судя по всему, человек был совсем молод: росту невысокого, сложен аккуратно, даже грациозно. Мальчик, что ли? Его резная фигурка стоит на доске, руки ловко вращают двулопастное весло, огребая волну то справа, то слева.
Солнце било ему в спину, сияя нимбом над головой, выжигая жарево бликов вокруг доски. Ах, сколько золота! Прямо церковная утварь, а не кадр!
Была в этой картинке упоительная легкость слияния разных поверхностей: неба, воды, тонкого человечьего тела на фоне плюшевой, с лохмотьями мха, морской скалы… Да‑да, так! Стой так, мальчик, стой, миленький… Она скомпоновала кадр, сняла. Еще раз. Какая воздушная картинка: танцующая на воде стрекоза.
Теперь лицо взять крупнее…
Выждав минут пять, пока он подойдет ближе к берегу, она вновь скомпоновала кадр. В фокусе оказалось лицо отнюдь не мальчика – мужчины, и очень интересное лицо: жестокое и одновременно женственное. Умное и одновременно легкомысленное (будто коверный‑эксцентрик на время взялся заменять актера, игравшего, например, Гамлета в сцене явления Призрака, и реплики страдающего принца путаются с цирковыми репризами).
Прожигающие глаза, молниеносные руки из тех, что, как говорит папа, «ловко вяжут узлы судьбы»… Этого человека, подумала она, никто не застанет врасплох, этот – всегда защищен. И, похоже, вовсе не так молод, каким кажется отсюда, с берега.
Стоп.
Она вдруг поняла, что видит это лицо не впервые. И поняла не в первый миг лишь потому, что в прошлый раз он был одет, да еще как одет – в дорогой модный костюм.
Врожденная, скомпенсированная, обреченная на ост ро ту зрительная память тут же и предъявила зал кафе в центре Вены, где Айя подрабатывала на кухне, по своей привычке сторонясь многолюдства. А в тот день обслужила столик только потому, что Шандор, официант, упросил: ему позвонили из дому, что сынок упал на детской площадке и сломал руку, – Шандор помчался домой, а готовый заказ тем двоим вынесла Айя.
И скорее всего, быстро о них забыла бы, если б не примечательная внешность молодого: он был обрит наголо и похож на утонченного саудовского шейха, обработанного каким‑нибудь Кембриджем или Сорбонной. Другой был стар, с клочковатой сединой вокруг бугристой плеши, с пристальными глазками битого жизнью кабана.
Конечно, к вечеру она перестала о них думать; мало ли какие посетители заходят в известное кафе в центре Вены – калейдоскоп самых невероятных лиц. Но буквально следующим утром, проходя мимо афишной тумбы, увидела лицо юного шейха на афише: в концертной бабочке и с бликом в улыбке – что‑то такое он, оказывается, пел в Карлскирхе, какую‑то кантату или еще что‑нибудь не менее отстойное – короче, шизу зеленую…
Ну и ну, думала она, – столкнуться здесь, на острове, в чертовой дали от Вены, от Европы…
Ага, еще разик, вот так… Он классно сложен, этот шейх – тонкий, ломкий, хрусткий… просто «Пастушок» Донателло. Жаль, нельзя раскрутить его на сессию снимков. Что‑то не пускает ее – подойти, навязаться.
Ладно, вон уже и паром показался.
В последний раз она изменила зумом план: лицо идущего по водам оставалось неподвижным, лишь губы едва шевелились. Не иначе, кантату свою репетирует.
Непроизвольно она вслушалась… И тут ее как ледяным ветром ожгло. Нет, он не был защищен. Во всяком случае, не от нее, умеющей читать по губам. Потому что услышала она такое, от чего чуть не села прямо на песок.
В этих чужих, очень пластичных и легких губах профессионального певца бездумно кувыркался и нежился, то потягиваясь, то озорно подскакивая, ее родной‑семейный куплетик – будто отцово дыхание донеслось: «Стакаанчики гра‑ане‑ны‑ия… у‑упа‑а‑али со‑о стола…»
6
Высокие тополя в школьном окне: осенью желтые‑желтые, как Желтухин Третий, в мае – сначала зеленоперые, сквозистые, потом облитые серебристым трепетом беспокойной лохматой листвы, от которой по парте мечутся ушастые солнечные щенки. И тенистая дорога в школу по тополиной аллее вдоль арыка – все камешки, все выбоины ее, и тот пышный сиреневый дым весной в конце аллеи, где выстроились высокие кусты сирени. Она любила эту дорогу.
И школу любила, и никто там ее никогда не обидел. Так только, однажды в седьмом классе волосатый, как орангутанг, бугай‑второгодник, свалившийся к ним из другой школы, окликнул ее на перемене: «Эй ты, глухарка!» – за что в тот же день был отметелен на волейбольной площадке Сашкой Семякиным и Булатиком Ужкеновым.
Еще она обожала многодневные походы всем классом: летом – на Иссык‑Куль, через Алматинское ущелье, или в Тургень, или на Большое Алматинское озеро – ледниковое, ледяное, дымно‑голубое, как алмаз. Ходили в урочище Чимбулак, где смирные и густошерстные, как лохматые сумки, яки пасутся на лиловом поле цветущих горных хризантем. Весной можно пойти за подснежниками на «прилавки» и бродить там целый день: выйти на речку, сидеть на камне, глядя на искристую, струистую, пятнистую, как змея – от россыпи камушков на дне, – шкуру воды… А россыпь золота листьев – осенью, в Ботаническом саду или в Парке двадцати восьми гвардейцев‑панфиловцев: пружинно‑ржавое золото под ногами, желто‑канареечное – над головой, и все сливается вдали в мягкое сияние, с синей сердцевиной неба на мушке жадного взгляда, всегда нащупывающего дорогу…
А дорога начиналась дома: больше всего Айя любила обстоятельное складывание рюкзака. Кофе всегда варил папа, и большой, круглобокий, как торпеда, немецкий термос долго держал и нежил чудесный напиток. Затем складывалась одежда – ветровка с капюшоном, свитер даже летом (в горах ночью холодно), вторая пара джинсов. Особенно тщательно проверялась обувь. Отец, у которого и самого была слабость к хорошей обуви, всегда покупал Айе лучшие кроссовки – полдела для хорошего похода.
Во всей этой подготовке уже зрело предчувствие дороги, зародыш ее, невидимое присутствие, которое росло в сердцевине души как на дрожжах. Дорога начиналась дома и могла начаться где угодно. Айя чувствовала, что неизбежность дороги может настичь ее в самых разных местах. Неизбежность дороги, потребность дороги, ее ритм, ее ветер – преодоление пути…
В походах их всегда сопровождал Климент Нилыч – муж классной руководительницы, беззаветный школьный активист, душа‑человек.
Маленький, каракатый, с белоснежной скобой волос, стриженной надо лбом такой ровной полосой (словно бритвой срезано), что казалось, голова прихлопнута начищенной до блеска жестянкой. Был он фотограф‑энтузиаст, и после каждого похода в фойе школы вывешивалась стенгазета с собственноручно наклеенными им снимками – смешными, памятными или просто умопомрачительно‑пейзажными. Правда, его манера всюду влезать своей камерой посреди разговора или вперебивку песни у костра слегка раздражала, но был он добрейший дядька, все умел в походе, вечно таскал на горбу какие‑то аптечки, колышки, разрозненный инвентарь для разных походных нужд, так что вездесущий его объектив ребята терпели.

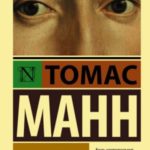



Комментариев нет