– А кто такой Крейз? – спросил Мартин.
– Мы как раз к нему и идем. Бывший профессор, изгнанный из университета, – самая обычная история. Ум острый, как бритва. Зарабатывает себе на пропитание всевозможными способами. Однажды был даже факиром. Абсолютно без предрассудков. Без зазрения совести снимет саван с покойника. Разница между ним и буржуа та, что он ворует без всяких иллюзий. Он может говорить о Ницше, о Шопенгауэре, о Канте, о чем угодно, но интересуется он, в сущности говоря, только монизмом. Даже о своей Мэри он думает гораздо меньше, чем о монизме. Геккель для него божество. Единственный способ оскорбить его – это задеть Геккеля. Ну, вот мы и пришли.
Бриссенден поставил бутылки на ступеньку лестницы, перед тем как начать подъем. Дом был самый обыкновенный угловой двухэтажный дом, с салуном и лавкой в первом этаже.
– Эта шайка живет здесь и занимает весь второй этаж, – сказал Бриссенден, – но только один Крейз имеет две комнаты. Идемте!
Наверху не горела лампочка, но Бриссенден ориентировался в темноте, словно домовой. Он остановился, чтобы сказать Мартину:
– Здесь есть один – Стивенс, теософ. Когда разойдется, производит невероятный шум. Моет посуду в ресторане. Любит хорошие сигары. Я видел однажды, как, съев обед за десять центов, он купил сигару за пятьдесят. Я на всякий случай захватил для него парочку. А другой, по фамилии Парри, – австралиец, это статистик и ходячая спортивная энциклопедия. Спросите его, сколько зерна вывезли из Парагвая в 1903 году, или сколько английского холста ввезено в Китай в 1890 году, или сколько весил Джимми Брайт, когда побил Баттлинга‑Нельсона, или кто был чемпион Соединенных Штатов в среднем весе в 1868 году, – он на все вам ответит с точностью автомата. Есть еще некий Энди, каменщик, – имеет на всё свои взгляды и прекрасно играет в шахматы; затем – Гарри, пекарь, ярый социалист и профсоюзный деятель. Кстати, помните стачку поваров и официантов? Ее устроил Гамильтон. Он организовал союз и выработал план стачки, сидя здесь, в комнате Крейза. Сделал это только для развлечения и больше не принимал никакого участия в делах союза из‑за лени. Если бы он хотел, он бы давно занимал видный пост. В этом человеке бесконечные возможности, но лень его совершенно необычайна.
Бриссенден продолжал продвигаться в темноте, пока полоска света не указала им порог двери. Стук, ответное «войдите!» – и Мартин уже пожимал руку Крейзу, красивому брюнету с белыми зубами, черными усами и большими выразительными черными глазами. Мэри, степенная молодая блондинка, мыла посуду в небольшой комнатке, служившей одновременно кухней и столовой. Первая комната была спальней и гостиной. Через всю комнату гирляндами висело белье, так что Мартин в первую минуту не заметил двух людей, о чем‑то беседовавших в углу. Бриссендена и его бутылки они встретили радостными восклицаниями, и Мартин, знакомясь с ними, узнал, что это Энди и Парри. Мартин с любопытством стал слушать рассказ Парри о боксе, который он вчера видел. А Бриссенден с азартом занялся раскупориванием бутылок и приготовлением грога. По его команде «собрать сюда всех» – Энди сразу отправился по комнатам созывать жильцов.
– Нам повезло, почти все в сборе, – шепнул Бриссенден Мартину, – Вот Нортон и Гамильтон. Пойдемте к ним. Стивенса, к сожалению, пока нет. Идемте. Я начну разговор о монизме, и вы увидите, что с ними будет.
Сначала разговор не вязался, но Мартин сразу же мог оценить своеобразие и живость ума этих людей. У каждого из них были свои определенные воззрения, иногда противоречивые, и, несмотря на свой юмор и остроумие, эти люди отнюдь не были поверхностны. Мартин заметил, что каждый из них (независимо от предмета беседы) проявлял большие научные познания и имел твердо и ясно выработанные взгляды на мир и на общество. Они ни у кого не заимствовали своих мнений; это были настоящие мятежники ума, и им чужда была всякая пошлость. Никогда у Морзов не слышал Мартин таких интересных разговоров и таких горячих споров. Казалось, не было в мире вещи, которая не возбуждала бы в них интереса. Разговор перескакивал с последней книги миссис Гемфри Уорд на новую комедию Шоу, с будущего драмы на воспоминания о Мэнсфилде. Они обсуждали, хвалили или высмеивали утренние передовицы, говорили о положении рабочих в Новой Зеландии, о Генри Джемсе и Брандере Мэтью, рассуждали о политике Германии на Дальнем Востоке и экономических последствиях желтой опасности, спорили о выборах в Германии и о последней речи Бебеля, толковали о последних начинаниях и неполадках в комитете объединенной рабочей партии, и о том, как лучше организовать всеобщую забастовку портовых грузчиков.
Мартин был поражен их необыкновенными познаниями во всех этих делах. Им было известно то, что никогда не печаталось в газетах, они знали все тайные пружины, все нити, которыми приводились в движение марионетки. К удивлению Мартина, Мэри тоже принимала участие в этих беседах и при этом проявляла такой ум и знания, каких Мартин не встречал ни у одной знакомой ему женщины.
Они поговорили о Суинберне и Россетти, после чего перешли на французскую литературу. И Мэри завела его сразу в такие дебри, где он оказался профаном. Зато Мартин, узнав, что она любит Метерлинка, двинул против нее продуманную аргументацию, послужившую основой «Позора солнца».
Пришло еще несколько человек, и в комнате стало уже темно от табачного дыма, когда Бриссенден решил, наконец, начать битву.
– Тут есть свежий материал для обработки, Крейз, – сказал он, – зеленый юноша с розовым лицом, поклонник Герберта Спенсера. Ну‑ка, попробуйте сделать из него геккельянца.
Крейз внезапно встрепенулся, словно сквозь него пропустили электрический ток, а Нортон сочувственно посмотрел на Мартина и ласково улыбнулся ему, как бы обещая свою защиту.
Крейз сразу напустился на Мартина, но Нортон постепенно начал вставлять свои словечки, и, наконец, разговор превратился в настоящее единоборство между ним и Крейзом. Мартин слушал, не веря своим ушам, ему казалось просто немыслимым, что он слышит все это наяву – да еще где, в рабочем квартале, к югу от Маркет‑стрит. В этих людях словно ожили все книги, которые он читал. Они говорили с жаром и увлечением, мысли возбуждали их так, как других возбуждает гнев или спиртные напитки. Это не была сухая философия печатного слова, созданная мифическими полубогами вроде Канта и Спенсера. Это была живая философия спорщиков, вошедшая в плоть и кровь, кипящая и бушующая в их речах. Постепенно и другие вмешались в спор, и все следили за ним с напряженным вниманием, дымя папиросами.
Мартин никогда не увлекался идеализмом, но в изложении Нортона он явился для него откровением. Крейз и Гамильтон не считали идеализм логической необходимостью, они смеялись над Нортоном, называя его метафизиком, а тот в свою очередь называл метафизиками их. «Феномены» и «нумены» так и носились в воздухе. Крейз и Гамильтон обвиняли Нортона в попытках объяснить сознание из самого сознания. А тот в свою очередь обвинял их в том, что в своих рассуждениях они идут от слов к теории, а не от фактов к теории. Это их бесило. Их основной догмат сводился к тому, что следует начинать с фактов и фактам давать определение.



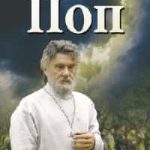


Комментариев нет