— Пятьсот Третий разве в Фаланге? — Мне становится тесно даже тут, на их гребаном летучем острове. — Ведь по правилам…
— Всегда бывают исключения из правил. — Шрейер перебивает меня учтивым оскалом. — Так что у вас будет приятный компаньон.
— Я возьмусь за это дело, — говорю я.
— Ну и прекрасно. — Он не удивлен. — Хорошо, что я нашел в вас человека, с которым можно говорить по существу и начистоту. Такую искренность я позволяю себе не со всеми. Еще текилы?
— Давайте.
Он сам отходит к переносному пляжному бару, плещет мне из початой бутылки в квадратный стакан огня на два пальца. Через открытую секцию купола на остров залетает прохладный ветер, ерошит пластиково-сочные кроны. Солнце начинает скатываться в тартарары. Голова моя схвачена обручем.
— Знаете, — говорит господин Шрейер, передавая мне бокал, — вечная жизнь и бессмертие — это ведь не одно и то же. Вечная жизнь тут. — Он притрагивается к своей груди. — А бессмертие здесь. — Его палец касается виска. — Вечная жизнь, — он ухмыляется, — включена в базовый соцпакет. А бессмертие доступно только избранным. И думаю… Думаю, вы бы могли достичь его.
— Достичь? Разве я не уже один из Бессмертных? — шучу я.
— Разница такая же, как между человеком и животным. — Он вдруг снова являет мне свое пустое лицо. — Очевидная человеку и неочевидная животному.
— Значит, мне еще предстоит эволюция?
— Увы, само собой ничего не происходит, — вздыхает Шрейер. — Животное из себя надо вытравливать. Вы, кстати, не принимаете таблетки безмятежности?
— Нет. Сейчас нет.
— Очень зря, — добродушно укоряет меня он. — Ничто так не поднимает человека над собой, как они. Советую попробовать снова. Ну что ж… На брудершафт?
Мы чокаемся.
— За твое развитие! — Шрейер высасывает содержимое своего шара до дна, опускает его на песок. — Спасибо, что пришел.
— Спасибо, что позвали, — улыбаюсь я.
Когда бог ласково говорит с мясником, для последнего это скорее означает грядущее заклание, чем приглашение в апостолы. И кто, как не мясник, сам играющий в бога со скотиной, должен бы это понимать.
— Что же это? «Франсиско де Орелльяна»? — Я впускаю в пустой стакан лучи заходящего солнца, гляжу на просвет.
— «Кетцалькоатль». Ее лет сто, как не производят уже. Я не пью, но говорят, вкус изысканный.
— Не знаю. — Я повожу плечами. — Главное — эффект.
— Ну да. И еще на всякий случай… Если вдруг будешь колебаться. Пятьсот Третьего мы туда тоже отправим. Не явишься ты, придется отрабатывать ему. — Он вздыхает, как бы показывая, насколько ему был бы неприятен этот вариант. — Эллен тебя проводит. Эллен!
На прощание он жмет мне руку. У него хорошее рукопожатие и приятная ладонь — крепкая, сухая, гладкая. При его работе это наверняка полезно, хотя и ровным счетом ни о чем не говорит. Об этом я знаю по работе собственной — а через меня человеческих рук тоже проходит немало.
Он остается на пляже, а госпожа Шрейер — без шляпы — эскортирует меня к лифту. Скорее даже буксирует — учитывая мое состояние и то, что она по-прежнему плывет впереди, а я гребу в ее кильватере.
— Ничего не хотите сказать? — интересуется ее спина.
Все происходящее со мной сегодня решительно ничем не напоминает реальность, и это придает мне нездорового легкомыслия.
— Хочу.
Мы уже в доме. Комната с темно-красными стенами. На одной из них — огромное золотое лицо Будды, выпуклое, все в паутине трещин, глаза закрыты, веки разбухли от накопившихся за тысячу лет снов. Под Буддой — широкая тахта, обитая вытертой черной кожей.
Она оборачивается.
— Что же?
— Вы не зря тут живете. Под этим вашим куполом. Загар действительно очень… — Я провожу взглядом по ее ногам — от сандалий до отреза платья. — Очень-очень ровный. Очень.
Эллен молчит, но я вижу, как вздымается под кофейной тканью ее грудь.
— Кажется, вам немного жарко, — замечаю я.
— Мне немного тесно. — Она поправляет ворот своего платья.
— Ваш муж рекомендовал мне принимать таблетки безмятежности. Считает, что надо вытравливать из меня животное.
Госпожа Шрейер медленно, словно сомневаясь, поднимает руку, берется за оправу и снимает очки. Глаза у нее зеленые, охваченные карим ободком, но какие-то будто матовые, будто изумруды слишком долго без внимания пролежали на витрине. Высокие скулы, чистый от морщин лоб, тонкая переносица. Без очков, как без панциря, она кажется совсем хрупкой — той приглашающей, вызывающей женской хрупкостью, которую мужчине хочется изорвать, расцарапать, затоптать.
Я оказываюсь рядом с ней.
— Не надо, — говорит она.
Беру ее за кисть — сильнее, чем надо, — и зачем-то тяну вниз. Не знаю, хочу ли я сделать ей приятно или больно.
— Больно. — Она пытается высвободиться. Я отпускаю ее. Она делает шаг назад.
— Уходите.
До самого лифта Эллен молчит, а я созерцаю ее затылок, наблюдаю, как льется и сияет мед. Я чувствую, как из-за моей неуклюжести, неверного движения спонтанная сила тяготения, почти столкнувшая нас, нечаянных, в космическом пространстве, слабнет, как траектории наших судеб вот-вот растащат нас друг от друга на сотни световых лет.
Но собираюсь с мыслями я, только когда уже стою в кабине.
— Чего не надо?
Эллен чуть прищуривается. Она не переспрашивает. Она помнит свои слова, обдумывает их.
— Оставьте это свое животное в покое, — произносит она. — Не надо его травить.
Двери закрываются.
Глава II. ВОДОВОРОТ
Мне нельзя здесь находиться. Но я слишком взбудоражен, чтобы идти домой, и слишком пьян, чтобы сдержаться, поэтому я тут. В купальнях «Источник».
Отсюда, из моей чаши, кажется, что купальни занимают всю Вселенную.
Сотни больших и малых бассейнов «Источника» веерными каскадами поднимаются к теплому вечернему небу. Чаши бассейнов сообщаются прозрачными трубами. Из помещений для переодевания подъемником взбираешься по стометровому стеклянному стволу, на котором и зиждется вся эта фантасмагория, на самую вершину конструкции — и попадаешь в обширный бассейн. А из него уже можно с пенистыми ручьями сплавляться по расходящимся в разные стороны трубам вниз, от одной чаши — к другой, пока не найдешь такую, где захочется остаться.
Каждая чаша, заполненная морской водой, пульсирует своим цветом и в такт той мелодии, которая играет внутри ее. Но какофонии не возникает: управляемые одним дирижером, тысячи чаш играют грандиозным оркестром, и из их разноголосицы выплавляется симфония. Чаши, как и трубы, — прозрачны; если смотреть на них сверху, они кажутся соцветиями на ветвях древа мироздания, если глядеть снизу — сонмами радужных мыльных пузырей, которые ветер уносит в преднощную синь. И многоцветное свечение этих пузырей тоже согласовано, синхронизировано: гроздья висящих в пустоте бассейнов, перевернутых стеклянных куполов то принимают общий оттенок, то начинают передавать друг другу по трубам сначала один цвет, а потом другой — как будто огонь взбегает вверх по хрустальному баобабу, соединяющему землю с небесами.




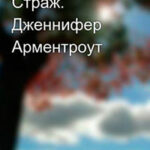

Комментариев нет